Аминат Чокобаева
Историческая память о восстании 1916 года на территории современного Кыргызстана до сих пор остается во многом противоречивой. Как правило, споры разворачиваются вокруг природы восстания; спектр мнений при этом достаточно широк — от «геноцида» и «резни» до «противостояния между метрополией и колонией» и «трагедии» в многовековой истории дружбы двух народов. Несмотря на разницу в расстановке акцентов — геноцид возможен в условиях колониального противостояния, и любые человеческие жертвы являются трагедией, — все эти подходы объединяет понимание восстания как отправной точки современной кыргызской государственности.
В то же время попытки переосмыслить восстание как стремление к национальному самоопределению отталкиваются от предположений репрессивности советского аппарата по отношению к социальной памяти о восстании. В частности, утверждается, что сам факт восстания замалчивался советскими властями в целях избежания межэтнических конфликтов и подавления естественных устремлений кыргызского народа к национальному самоопределению, и что память о восстании сохранилась вопреки, а не благодаря усилиям властей. Таким образом, память о восстании понимается как часть национального строительства, которое противопоставляется строительству социалистическому.
Однако обзор культурного производства в Киргизии довоенного периода говорит об обратном. Тема восстания занимала видное, если не ключевое, место в общественной и политической жизни республики. Так, например, «национально-освободительному восстанию» был посвящен ряд публикаций как академической, так и общей направленности. Помимо сборников, монографий и многочисленных статей в академической периодике, брошюр научно-популярного характера и статей в республиканских органах печати, события 1916 года также легли в основу нескольких романов на кыргызском языке, вышедших в 1920–1930-е годы, среди которых: роман «Аджар» Касымалы Баялинова, изданный в 1928 году, роман в стихах «Кровавые годы» («Кандуу жылдар») Аалы Токомбаева, вышедший в 1935 году, повесть Мукая Элебаева «Долгий путь», изданная в 1936 году, и многие другие, включая достаточно известную в советское время повесть о восстании на русском языке Дмитрия Фурманова «Мятеж», вышедшую в 1925 году. Тема восстания была
поднята и в музыкальной драме «Не смерть, а жизнь» («Аджал ордуна»), поставленной открывшимся в 1937 году Киргизским музыкально-драматическим театром, и в пьесе для кишлачно-деревенского театра Колпакова. Немалые усилия были также потрачены республиканскими властями на проведение юбилейных мероприятий, приуроченных к десятилетию, пятнадцатилетию и двадцатилетию восстания.
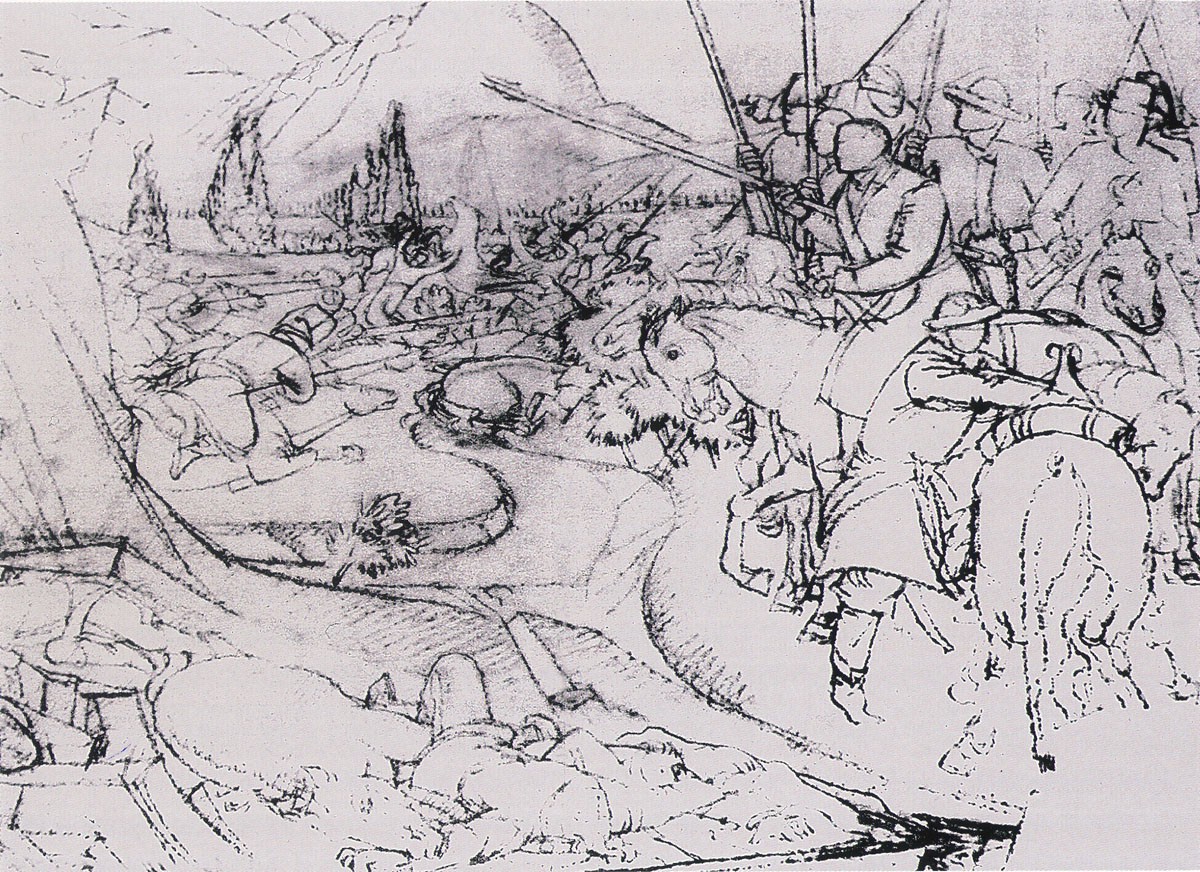
Композиция фрески «Восстание 1916 г.». 1936–1937. Источник: «Рисунки Бела Уитца и Оксаны Павленко: Подготовительные работы к росписи Дома правительства Киргизской ССР в 1936–1937 гг.». Ф.: Кыргызстан, 1973
В этом свете утверждения о репрессивности советской политики памяти по отношению к национальной памяти представляются безосновательными. Более того, встает вопрос о том, насколько то, что мы считаем национальной памятью, является по сути советским взглядом на прошлое. Проще говоря, какую роль в конструировании национальных идентичностей играло государство? Вопрос, конечно же, не нов и получил достаточно широкое освещение в западной исторической науке последних двух десятилетий. Достаточно вспомнить работы Терри Мартина, Сергея Слезкина, Франсин Хирш и многих других.
Продолжая конструктивистскую традицию исследований национальной идентичности, я вижу своей задачей понять прежде всего причины, по которым события 1916 года были поставлены в основу национального проекта Советской Киргизии в межвоенный период. Моя главная мысль следующая: как средство формирования политических настроений населения Средней Азии историография восстания 1916 года входила в инструментарий государственного строительства. Не преуменьшая роли репрессивных практик в становлении СССР, мне хотелось бы рассмотреть историографию восстания в историческом измерении с учетом политических задач, стоявших перед руководством Советского Союза в период между двумя войнами. В этой связи я предлагаю рассматривать советскую политику памяти восстания 1916 года как совокупность информационных, культурно-просветительских и пропагандистских практик формирования и актуализации новых форм коллективных идентичностей.
Мой подход к изучению восстания основан на работах Питера Холквиста, который характеризует СССР как модернистское мобилизационное государство, осуществлявшее программу реорганизации на основе широкой социальной базы посредством вмешательства в социальную сферу. В переложении теорий Холквиста на советскую историографию восстания 1916 года мы можем придти к следующему выводу: необходимость привлечения населения национальных периферий к реализации программы масштабных социальных преобразований привела власти к поиску действенных мер социальной мобилизации. Одной из таких мер и была советская историография восстания 1916 года. Я выделяю два периода становления историографии восстания: до конца 1920-х годов и с начала 1930-х годов до начала войны.
Для первого периода характерны исключительно национальное прочтение восстания, резкая критика колониальной политики России и русских переселенцев и слабость классового анализа восстания. Я связываю подобную, не совсем типичную для более поздней советской историографии Средней Азии, трактовку с необходимостью формирования коллективных форм идентичности в рамках институционализированных национальных автономий. Сопряжение национального и классового на втором этапе государственного строительства ознаменовало начало кампании тотальной мобилизации, требовавшей от населения национальных окраин отождествления «собственных» национальных республик с общей советской родиной.
Колониальная революция
Прежде чем приступить к обсуждению историографии, мне хотелось бы дать краткий исторический экскурс. Анализ восстания невозможен в отрыве от исторического контекста, временные рамки которого не ограничиваются 1916 годом, а охватывают период между двумя революциями 1905 и 1917 года и окончанием гражданской войны. Это период кризиса и падения автократического режима, добровольного и насильственного перемещения огромного числа жителей империи, мобилизации, массового голода. В условиях войны и нехватки продовольствия сельскохозяйственная земля была единственной гарантией выживания. В Семиречье противостояние между переселенцами из внутренних районов России и коренным населением за землю, захваченную переселенцами, приняло форму этнических чисток и полного уничтожения имущества противника. Переселенцы, вооруженные правительством и имевшие поддержку регулярной армии, имели несомненное преимущество. Карательные экспедиции, эпидемии и голод привели к огромным человеческим потерям среди коренного населения Семиречья.
Возвращение беженцев из Китая после революции было не менее трудным, чем само бегство. Коренное население стало невольным участником гражданской войны. Как и до гражданской войны, противостояние между колонистами и местным населением развернулось за контроль над ресурсами. Приход большевиков к власти в Средней Азии был осуществлен в значительной степени силами переселенцев и небольшой группы русских железнодорожных рабочих, которые видели в советской власти возможность сохранить за собой традиционные привилегии и земли, отнятые у коренного населения во время восстания. Несмотря на то, что большевикам удалось привлечь на свою сторону некоторых радикально настроенных представителей коренной интеллигенции, революция в Средней Азии, по меткому выражению видного большевика Григория Сафарова, была колониальной.
Насильственное присоединение бывшей колонии к советской России поставило перед новыми властями ряд идеологических и практических проблем, которые требовали незамедлительного решения. Во-первых, отсутствие коренного рабочего класса ставило под сомнение саму возможность революции в колонии. Во-вторых, неизбежным результатом насаждения советской власти без массового участия местного населения была ее нелегитимность, что, в свою очередь, привело к появлению вооруженных (так называемых басмаческих) групп, ведущих партизанскую войну против Советов. В-третьих, зависимость режима от силовых методов не оставляла возможностей и ресурсов для экономического развития региона. И, наконец, в-четвертых, колониальный характер революции в Средней Азии делал перспективу вовлечения региона в социалистическое строительство весьма призрачной.
Между нацией и революцией
Необходимость снискать симпатии и заручиться поддержкой коренного населения была очевидна; «завоевать доверие туземцев» было, по словам Владимира Ленина, «дьявольски важно». Ответом властей на проблему отчуждения коренного населения национальных окраин от советской России стала политика национального строительства на социалистических началах, известная также как коренизация. Коренизация была призвана «сделать Советскую власть близкой и родной для трудящихся Туркестана». Среди задач, выдвинутых советским руководством в рамках программы коренизации, были: «вовлечение трудовых масс национальностей окраин в общую работу строительства социалистического государства»; подтягивание «культурного уровня трудовых слоев»; «просвещение их социалистически»; «развитие литературы на местных языках»; «введение наиболее близких к пролетариату местных людей в советские организации» и «приобщение их к делу управления краем».
Таким образом, при разработке основных положений коренизации власти исходили из соображений политической консолидации этнически пестрых и хозяйственно неоднородных национальных окраин СССР. Необходимым условием национального строительства было утверждение национальных идентичностей, направленное на воспитание в населении чувства сопричастности к революции и персональной ответственности за национальное, а следовательно, и социалистическое строительство. В целом, сознательное обращение властей к прошлому в рамках национального строительства обнаруживает инструменталистский подход советского руководства к дореволюционной истории региона. Санкционированные государством представления о прошлом способствовали государственному строительству и обеспечивали лояльность населения.
На примере историографии восстания 1916 года в Кыргызстане мне хотелось бы рассмотреть формы и практики формирования нового исторического сознания в условиях национальной периферии СССР. На первый взгляд, выбор восстания 1916 года в качестве основы национальной идентичности представляется нелогичным в свете попыток советской власти построить многонациональное государство и свести межэтнические конфликты к минимуму. Тем не менее, тема борьбы с царизмом, проходящая красной линией через раннесоветскую историческую дисциплину, была крайне актуальна и для историографий национальных республик и автономий.
О ключевой роли восстания в раннесоветской национальной политике в Кыргызстане свидетельствует протокол заседания комиссии по подготовке проведения десятилетия восстания от 13 мая 1926 года: «10-летие этих событий для Киргизстана должно иметь большое значение и может послужить моментом внедрения в сознание широких трудящихся масс Киргизстана понятий о национальной политике… Советской власти». «На территории Киргизстана», говорится в протоколе, «были самые крупные события, в других районах б. Джеты-суйской области восстание носило менее напряженный характер. Поэтому на киргизском народе эти события отразились более всего. В истории киргиз 1916 год занимает очень яркое место».
Эмоциональный заряд — «яркое место», «массовость» и «общенародность» — памяти о восстании позволяли советскому руководству актуализировать идею о революционной природе национальных движений, что, в свою очередь, способствовало устранению дефицита легитимности советских властей. Восстание в официальной трактовке является национальным и, в силу своей антиколониальной направленности, одновременно революционным. «Восстание коренного населения Средней Азии в 1916 году», — информирует читателей статья, посвященная десятилетию восстания, — «было широким массовым движением против колониальной политики русского империализма», которое «должно быть занесено на страницы истории такими же большими буквами, как и…революционные движения… в истории России».
В соответствии с логикой национального строительства, согласно которой «признание… национальной самостоятельности… со стороны Революционной России успешнее откроет доступ… русской культуре и идеям русской революции, чем это сможет сделать какое-либо намеренное внедрение», движущей силой выступлений коренного населения в 1916 году советские историки называют «желание угнетенной национальности, путем самоcтоятельной и массовой борьбы, сбросить с себя иго и цепи рабства и расчистить путь к политической свободе нации, к самоопределению и экономической независимости».
Отождествление национальных движений с революцией обусловило и определение восстания как «национально-освободительной, или, что все равно, — колониальной… революции». В историографии восстания 20-х годов восстание рассматривается прежде всего с национальных позиций. Национальный характер восстания отмечается в большинстве исследований колониальной истории региона периода НЭПа. Юсуп Абдрахманов, будущий председатель совнаркома Киргизской АССР, указывает на национальный характер восстания, направленного против «господствующей нации».
Оценку восстания как национального и даже националистического дает и Турар Рыскулов, один из самых видных советских руководителей Средней Азии из числа коренного населения: «…противоречия, вытекающие из колониального гнета царизма, и послужили причиной, заставившей туземные трудовые массы поднять восстание, в первую очередь, против русской власти. Причем повстанцы в своих нападениях не разбирали ни русских царских чиновников, ни русских крестьян, ни русских рабочих, а во-вторых, на туземный имущий элемент повстанцы нападали постольку, поскольку они были соучастниками или пособниками русских. Все это показывает, что восстание было направлено вообще против русских». Такого же мнения придерживается и Андрей Шестаков в статье за 1926 год, в которой он сообщает, что «восстание киргиз в Семиреченской области выражалось главным образом в форме нападений на русские селения. Киргизы разгромили ряд больших сел, и в некоторых из них почти все население было перебито, и сами села сожжены».
Обращает на себя внимание в национальных историографиях первого десятилетия советской власти и скорее положительный образ дореволюционных элит, некоторых представителей которых советской власти удалось привлечь к национальному строительству. Вышеупомянутый Шестаков называет лидеров восстания, представленных, как правило, манапами, «старейшими, более опытными житейски людьми, которым массы доверяли». Петр Галузо в своем очерке по истории колониального Туркестана отдает манапам и баям роль «застрельщиков» «национально-революционного движения».
Связка революции и нации позволяет властям видеть в революции политическое признание и институциональное оформление «национальной самостоятельности» коренных народов. Восстание, пишет Шестаков, раздвинуло «политические горизонты местного населения» и подготовило коренное население к революции, которая разрубила «тот экономический узел, который был завязан в Средней Азии царским правительством». В такой интерпретации революция, чьи «внешние проявления» — «насилие, грабеж, злоупотребления и своеобразная диктаторская власть» — приводили, по словам представителя коренной интеллигенции, местное население в «ужас», предстает продолжением национальной борьбы за национальную независимость и связывает «революционную борьбу за социализм с революционной программой в национальном вопросе».
Между нацией и классом
Начиная с первой половины 1930-х годов в оценке движущих сил восстания намечается сдвиг. С подачи властей формула классовой борьбы получает более широкое применение в анализе национальных движений. Если в историографии восстания образца середины 1920-х классовая борьба разворачивается между колонистами и коренными народами, то в историографии нового образца классовые противоречия обнаруживаются и среди коренного населения. Тема классовой борьбы становится общим знаменателем, под который подводятся национальные историографии.
С чем же были связаны резкие перемены в историографии восстания?Большую роль в переводе национальных историографий на новые рельсы стал политический и экономический кризис во второй половине 1920-х годов. Ухудшающиеся отношения с Западной Европой, Великобританией в частности, и убийство советского полпреда в Польше Петра Войкова в 1927 году ввергли страну в панику, сопровождающуюся острым дефицитом сельскохозяйственной продукции, вызванным слухами о предстоящей войне. То, насколько серьезно советское руководство воспринимало угрозу войны, становится очевидно из майских тезисов Коминтерна «О войне и военной опасности» и июньского выступлении Николая Бухарина на пленуме ВКП(б). Несмотря на то, что краткосрочные опасения советских властей не подтвердились, угроза войны не потеряла свою остроту. Война, согласно убеждениям партии, была делом времени, а подготовка к ней — вопросом выживания.
Первые меры по подготовке к войне не заставили себя ждать; первый пятилетний план форсированной индустриализации был принят в 1928 году. Масштабные изменения коснулись не только хозяйственной жизни страны. Необходимость консолидации многонационального населения страны в преддверии войны привела режим к поиску универсального языка мобилизации. Таким языком стал советский патриотизм — «культура народов СССР», «культура социалистическая» и «общая для всех трудящихся». Понятие родины, «социалистического отечества», чья «независимость» зависела от совместных согласованных усилий власти и «миллионных масс рабочих и крестьян», было впервые озвучено Сталиным в 1931 году.
Универсализм социалистической культуры не означал, тем не менее, отказа от политики коренизации; «по форме своей» культура социалистическая «есть и будет… культурой национальной, культурой различной для народов СССР». Более того, в стране победившего социализма классовые интересы были тождественны государственным, т. е. национальным интересам. «Здоровый, правильно понятый национализм» народов СССР был той основой, на которую «должен опираться» «пролетарский интернационализм». Таким образом, советский патриотизм объединял одновременно и революционную риторику, взывавшую к классовой солидарности, и национальную риторику защиты родины, как национальной, так и общесоветской, от агрессии капиталистического Запада.
По существу, советский патриотизм представлял собой форму гражданского национализма, направленного на солидаризацию населения национальных республик друг с другом и с государством в целом. Приоритетными задачами государственного строительства в условиях тотальной мобилизации стали: обеспечение поддержки внутри страны и предупреждение внешнего влияния. Примечателен в этом отношении тост, произнесенный Сталиным в ноябре 1937 года, в котором «вождь народов» подчеркнул «единость и неделимость» советского государства, «каждая часть которого», будь она «оторвана от общего социалистического государства, не только нанесла бы ущерб последнему, но и не могла бы существовать самостоятельно и неизбежно попала бы в чужую кабалу».
Перед советскими историками встала задача гармонизации национальных историографий и формирования образа родины, сложившейся в результате совместной, исторически предопределенной, борьбы народов СССР за классовое и национальное освобождение. В новой концепции единой истории СССР национальный подъем и революционный порыв были неразделимы; в основе национальных движений лежало классовое противостояние.
Попытки совместить классовую борьбу с борьбой национальной требовали определенных компромиссов и намеренных упущений из национальных историографий. Не стала исключением и историография восстания 1916 года. Как мы увидим на примере Юсупа Абдрахманова, власти активно вмешивались в работу историков и считали своим долгом корректировать неправильные, с их точки зрения, положения.
Корректировке, в частности, подверглась хронология развития «национально-освободительного движения». Классовая борьба, как известно, невозможна без классов, поэтому нововведением в историографии восстания становится довод о том, что классовое расслоение коренного населения имело место до восстания. Немало важно также и то, что в новом прочтении колониальной истории Средней Азии к царским эксплуататорам присоединяются эксплуататоры из числа местного населения. «Двойной гнет и грабеж со стороны царского правительства и местной национальной буржуазии… вывели из самостоятельной хозяйственной жизни бедняцко-середняцкие массы и открыли широкий путь к обатрачиванию, нищете и разорению хозяйств», — пишет Шестаков. Именно «классовой борьбе, имевшей место среди киргиз», обязаны своим существованием и трудящиеся туземные массы, «букара» («эта чернь» в переводе Абдрахманова), — соглашается с Шестаковым Абдрахманов.
Вполне предсказуемо, что представители «национальной буржуазии», чья роль в историографии восстания предыдущего десятилетия оценивалась скорее позитивно, в историографии 1930-х годов лидерами восстания быть не могли. В новой историографии восстания движущими силами выступают обездоленные слои местного населения, исполняющие роль своеобразного суррогата рабочего класса в колониях. Классовый характер, по мнению Галузо, Шестакова и Исакеева, очевиден в социальном происхождении участников восстания; во главе восстания «шли и активно выступали декханско-скотоводческие массы и трудящиеся городов»; «широкие крестьянские массы как оседлых землевладельцев, так и кочевников»; «батрачество, беднота и середняцкая масса коренного населения».
Того же мнения придерживается и Л. Лесная: «Двойной гнет пришлых и «своих» эксплоататоров» и растущая классовая самосознательность привела «народы Туркестана (узбеков, киргизов, туркменов, таджиков, и др.)» к тому, что «фактическими руководителями восстания были наиболее активные и передовые элементы из батрацких и бедняцких слоев населения».
С классовой борьбой связывают советские исследования 1930-х годов и сближение киргиз с русским пролетариатом, что совсем нетипично для раннесоветских исследований восстания. Накануне восстания, замечает Галузо, отмечалась «передвижка линии борьбы от борьбы против всех русских к борьбе против всех эксплоататоров, независимо от их национальности». Вследствие таких перемен в настроениях зарождающегося рабочего класса колонии «в наиболее передовом районе по расслоению туземного населения (Фергана) декхане били прежде всего по своей администрации и только потом, во вторую очередь, по русским чиновникам». Шестаков, который в статье за 1926 год писал, что практически все население русских поселков было перебито повстанцами, в своей более поздней статье, вышедшей в 1931 году, подчеркивает, что восставшие «стреляли вишневыми косточками» и «как правило,… не убивали ни женщин, ни детей, забирая их в плен и уводя в горы». Он также отмечает случаи помощи со стороны русских колонистов: «были пленные и мужчины, которых русские крестьяне-кулаки обвиняли в том, что они вели себя, как изменники, перебегая к киргизам и даже оказывая им ту или иную помощь, а таких случаев было немало».
Вообще, сглаживание конфликтной составляющей в истории взаимодействия коренных народов с царской Россией стало самым заметным проявлением нового курса в историографии национальных движений. Избирательное забывание взаимных актов насилия позволяло проецировать образы единства и конструировать коллективную наднациональную советскую идентичность. Три статьи под авторством Абдрахманова позволяют судить о новой модели межнациональных отношений в условиях нарастающего противостояния с внешним миром. Первая статья, опубликованная в 1926 году, к десятилетию восстания, представляет собой небольшую по объему, но емкую полемику о характере восстания, которое Абдрахманов считает национальным, с «элементами классовой борьбы», но без классового наполнения. Он также косвенно указывает на контрреволюционную роль русских «мужиков», «практических колонизаторов», чьи интересы совпадали с интересами царизма.
Вторая статья Абдрахманова, приуроченная к пятнадцатилетию восстания, придерживается в целом точки зрения, представленной в первой статье. Так, Абдрахманов пишет о том, что «восстание является националистическим», потому что «во-первых, восстание, направленное против царизма, приняло характер восстания против всех русских как угнетающей нации и, во-вторых, потому что всякое революционное движение в отсталых странах», где нет пролетариата и где «действующей силой революции является крестьянство, может быть только национально-освободительным революционным движением».
Третья статья Абдрахманова, вышедшая в сентябре 1931 года, всего через месяц после публикации второй статьи, была написана после непосредственного вмешательства партии, о чем позволяет судить введение к самой статье, извещающее читателей, что в «в связи с решением бюро обкома ВКП(б)» и «большевистской критикой» статьи за 1926 год «тов. Абдрахманов» признает, что им были допущены «грубые политические ошибки националистического характера», как-то: «противопоставление нации против нации, смазывание общности классовых интересов между трудящимися массами русского и киргизского крестьянства, отрицание возможности их совместной борьбы против царизма, империалистической буржуазии, кулаков, баев, манапов» и т. д. На замену уже очевидно неактуальной трактовки национально-освободительного движения Абдрахманов предлагает типичное для новой историографии определение. Итак, «национально-освободительный характер восстания 1916 г. вытекает… из того, что оно было национально-освободительной войной против господства в Средней Азии российского империализма, военно-феодального по преимуществу, создавшего здесь систему самой варварской и беззастенчивой эксплуатации, грабежа и задерживавшей экономическое, культурное и политическое развитие народов Средней Азии».
Обращает на себя внимание нейтрализация этнической идентификации колониальных властей. «Российский империализм» предстает обезличенным и безэтничным политическим режимом. «Русский мужик», «практический колонизатор» в определении Абдрахманова (в статье за 1926 год), уступает место «переселенцу-кулаку» без национальности в более поздних работах советских историков. Применение классового принципа в качестве ключа к пониманию волнений на периферии империи в дореволюционное время позволяет советским историкам формировать образы и модели сотрудничества и взаимопомощи советских народов. В пику канонам советской историографии восстания эпохи НЭПа советская историография времен завершения первой пятилетки настаивает на том, что конфликт был не межэтнический, а классовый. Исакеев в статье, вышедшей в 1932 году, обращает внимание на то, что «повстанцы… обрушили свои удары на кулацко-зажиточные слои населения русских поселков», а не на простых русских крестьян. Русские крестьяне и киргизские скотоводы, дополняет Абдрахманов, «в одинаковой степени были угнетаемы царизмом, буржуазией и кулачеством без различия национальностей» и не могли, в силу общих классовых интересов, быть врагами друг другу.
Это не значит, что врага в советской историографии восстания не было. Образы врага в историографии восстания конкретны и узнаваемы; но если в 1920-х годах враг был представлен царизмом и его «агентами» — кулаками и буржуазией, — то с началом кампании по коллективизации к ним присоединяются киргизские «имущие эксплуататорские слои байства и манапства». В некотором смысле историография восстания выставляет дореволюционные киргизские элиты в еще более невыгодном свете, чем кулаков и буржуазию. Баи и манапы не только не разделяют классовых интересов широких масс коренного населения, но и заинтересованы в «выгодах колониального господства» и «играют предательскую роль» в национально-освободительной борьбе. Связка национальности и класса, как мы видим, могла иметь и негативные коннотации; классовый враг был одновременно и национальным предателем.
Единый поток
Образ врага имел широкое применение в советской официальной культуре; образы врага помогали культивировать образы позитивных пролетарских героев, сил революции. Так, например, в историографии восстания 1916 года образы врага в лице «китайских, кашгарских, монгольских и узбекских ханов и феодалов, русского царизма и своих манапов и баев», веками угнетавших «многострадальный киргизский народ», противопоставлялись «союзу среднеазиатского декханства и российского пролетариата и крестьянства». Немаловажно, что силы добра в этом случае представлены союзом русских и киргиз, сплоченных в борьбе против классовых и национальных угнетателей.
В то же время в подобном союзе коренному населению Средней Азии и самому восстанию отводится пусть и важная, но второстепенная, подчиненная роль. Цитируя Галузо и Абдрахманова, «cтрана колониальных рабов российского империализма в 1916 году вступила на путь революции», но «героическое восстание колониально зависимых народов Средней Азии, лишенное единого пролетарского руководства, носившее характер локальных районных выступлений, было подавлено».
Советская историография восстания дает понять, что исключительно национальная борьба обречена на провал без революции классовой. Способность республик Средней Азии «самим справиться с основными задачами социалистического строительства силами местного пролетариата» — не более чем «иллюзия», — подчеркивает Цвибак.
«Только в теснейшей связи с общероссийским социалистическим строительством, под руководством общероссийского пролетариата и его партии, трудовые массы бывшей колонии, трудовые массы организованных нами национальных республик могут пойти по пути социалистического строительства», — продолжает он.
В конечном анализе восстание 1916 года увенчалось успехом, поскольку «в своем развитии оно вело к объединению революционных сил России и Средней Азии». Слившись «в один поток с пролетарской революцией в России и под руководством последней», колониальная революция «пошла по линии перерастания в революцию социалистическую». Более того, «своим массовым выступлением трудящиеся декхане ослабили позиции империализма и облегчили разрешение революционных задач, помогли революционному пролетариату успешно завершить Октябрьскую революцию». Поэтому «восстание 1916 г. — самое грандиозное восстание в истории народов Туркестана и Казахстана — имело огромное значение и для революционного движения России в целом».
Вместе с тем только Октябрьская революция «решила те задачи, которые поставило перед собой восстание 1916 года» и обеспечила восстание необходимым пролетарским руководством: «Продолжая свою борьбу, но уже не в одиночестве, а в союзе с российским пролетариатом и под руководством большевистской партии, рабочие и декхане Средней Азии сбросили гнет царского самодержавия и российского империализма, а затем местных эксплоататорских классов, обеспечив тем самым возможность победоносного социалистического строительства в советских республиках Средней Азии и установление полного фактического равенства национальностей СССР». Советская историография восстания дает понять, что освобождение угнетенных народов возможно только в рамках пролетарской революции в союзе с советской Россией: «То, что не смогло сделать восстание 1916 года, — дать национальное освобождение угнетенным царизмом, буржуазией народам Средней Азии — дала победоносная пролетарская революция в Октябре 1917 года». Октябрьская революция буквально предстает спасительницей колониальных народов от истребления: «только Октябрьская революция, свержение диктатуры буржуазии и установление диктатуры пролетариата спасла жизнь трудящихся киргиз». «Великая пролетарская революция» дала киргизскому народу «светлую, радостную и счастливую жизнь, открыла перед ним невиданные перспективы роста и подъема».
Заключение
Вполне логично заключить, что выстраиваемая цепочка «национальная борьба — классовая борьба — национальное восстание — пролетарская революция» подразумевала иерархию исторических событий, в которой Октябрьской революции отводилась центральная роль. Задача советской историографии национальных восстаний состояла не столько в доказательстве самостоятельности национальных движений, сколько в легитимизации Октябрьской революции. Советская историография Семиреченского восстания 1916 года реализовала несколько задач советской власти: во-первых, приравнивая реальное участие в восстании к воображаемому участию в Октябрьской революции, советские историки артикулировали универсалистскую коллективную советскую идентичность посредством партикуляристской национальной кыргызской идентичности; во-вторых, сквозная тема классовой борьбы, проходящая на фоне борьбы национальной, позволила реконструировать историю захвата власти большевиками как продолжение и разрешение национальной борьбы; и, в-третьих, восстание одновременно подменило собой пролетарскую революцию, которая была невозможна в силу отсутствия рабочего класса в колониях, и позволило облечь советский проект эмансипации в национальные формы.
В заключение, как мы убедились на примере советской историографии восстания 1916 года, основной задачей советской национальной политики была мобилизация людских ресурсов советских республик Средней Азии в целях государственного строительства и обеспечения безопасности союзного государства.
Источник: Понятия о советском в Центральной Азии
